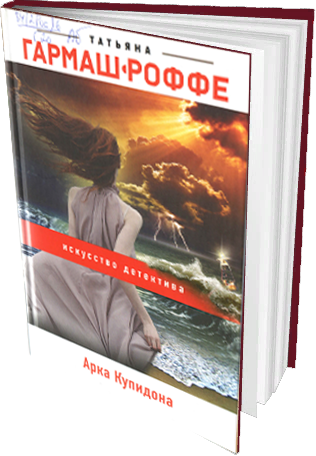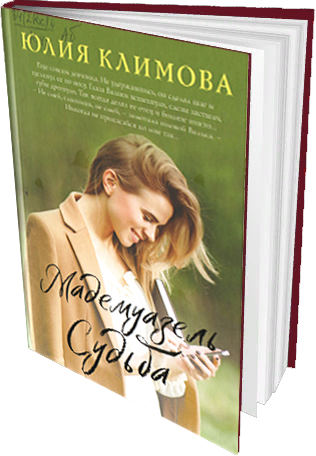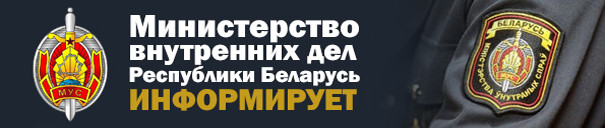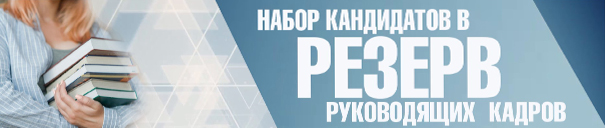“ШТО ЯНО?”
Темы сомнамбулизма и самоубийства в произведениях М. Горецкого и М. Богдановича
Один из самых известных российских историков литературы Д. С. Лихачев в своей книге “Литература – реальность – литература” высказывает интересную мысль о наличии, связи, взаимодействии и выявлении в литературе рационального и иррационального начал: “Рациональность и иррациональность в художественном творчестве находятся в некотором, свойственном каждой эпохе и каждому художнику отношении, и нельзя безнаказанно это соотношение нарушать...”
С этой точки зрения период, переживаемый нами, безусловно можно называть временем “иррацио”. Сегодня наблюдается всплеск интереса к самого разного рода “неопознанным объектам”, и в первую очередь, “неопознанным объектам” человеческой психики.
Наша эпоха - эпоха кризисная, когда до предела обострены так называемые вечные, проклятые, или, по Максиму Горецкому, “шалёныя” вопросы бытия человека.
Как и рубеж XX–XXI столетий, конец XIX – начало XX был отмечен необычайным вниманием к “патаёмнаму” человеческой психики, души (‘‘психеи”).
Остановимся на двух небольших проблемах, а точнее, на специфике их отражения в некоторых произведениях М. Горецкого и М. Богдановича.
Первая из них – проблема сомнамбулизма. Вот – один из разделов рассказа М. Горецкого “Што яно?”: “Ты абліваеш сваім блескам нудна, але ўпорчыва і бесперастання цалюткую ноч. Не блеск, не, не срэбра, а нешта алавянае...” Автор адекватно передает мироощущение и мировосприятие человека-лунатика, перед нами своеобразный “поток сознания”: оборванность, алогичность, недосказанность мыслей, что подчеркивается и графически – многочисленные многоточия (раздел начинается и заканчивается ими), абзацы (они также заканчиваются многоточиями); очень выразительна звукопись – аллитерация на сонорные: “Месячна... Месячна навокал, так месячна, і лезе нешта месячнае, тое маукліва-незразумелае, лезе у кволую душу, зваяваную прыгоствам нецямлівасці ўсяго, што тут спала блізка на зямлі, і што было, нявідзімае, у паветры і што, можа, мае душу ці пачаткі там, далёка, на другіх планетах Усясвету...” Сама тема сомнамбулизма, лунатизма предопределяет ту гамму звуков, которая варьируется, разворачивается в произведении М. Горецкого. Вспомним, например, известный перевод “Сомнамбулического романса” Г. Лорки: “Любовь моя, цвет зеленый. / / Зеленого ветра всплески. / / Далекий парусник в море, / /Далекий конь в перелеске...” или отрывки из “Лунатического рондо” известного футуриста, первые сборники которого были написаны в типичном для того времени стиле символической поэзии, Бенедикта Лившица: “Как мертвая медуза, всплыл со дна / / Ночного неба месяц, – и инкубы, / / Которыми всегда окружена / / Твоя постель, тебе щекочут губы, / / И тихо шепчут на ухо: луна!”).
Эта же гамма звуков характерна и для “Самнамбула” Максима Богдановича: “Месяц выплыў над змрочнай, заснуўшай зямлёй, / / I павёў яго ў цёмную даль за сабой, / / I прывабіў да мглістай халоднай вады...”
Интересно, что в стихотворении Богдановича, как и в остальных процитированных поэтических версиях темы сомнамбулизма, подчеркивается и передается не алогичность и болезненность мыслей героя, как в рассказе М. Горецкого, а своеобразная логика и гармония этого специфического состояния человека.
Кстати, “Самнамбул” – одно из двух стихотворений М. Богдановича, где присутствует вторая интересующая нас тема – тема самоубийства. Оно заканчивается строчками: “І пайшоў ён па шляху, пайшоў аж да дна: / / Агарнула яго цішына, глыбіна”. Однако значительно больший интерес в этом смысле представляет собою стихотворение Богдановича “Дзве смерці из цикла “Места”.
Исследователями уже отмечалась близость этого стихотворения к “Александрийским песням” Михаила Кузмина. Обращение Максима Богдановича к этой теме связано с традициями античной и русской литературы.
По мнению Р. Березкина, стихотворение построено на ассоциации: запах миндаля своеобразно уравнивает, “демократизирует” смерть бедной мещанки и знатного патриция.
С ним не соглашается Т. Чабан, которая пишет, что “в повторенном дважды образе-символе “мігдаловы горкі пах- ” не столько подобия, сколько контраста. В первом случае запах цветущего миндаля – это запах жизни, он естественный и как бы “снимает” трагизм смерти. Во втором случае он искусственный, концентрированный, ядовитый и сам несет смерть. Неизвестное – смерть – вот что объединяет патриция александрийского периода (периода эллинизма, своеобразного “декаданса”, упадка классической культуры Греции) с И. Ивановой с Мещанской улицы, женщиной “конца столетия”.
Возможность разного прочтения стихотворения, множества объяснений образа “мігдаловы пах” говорит в пользу того, что мы имеем дело с символом, с его сложной ассоциативностью и невозможностью разгадки.
Стихотворение действительно вырастает из “подобия-конраста” – как содержания и построения, так и глубинной сущности. Первая и вторая строфы одновременно и похожи по своей композиции, и различны – в них подчеркнуто смещены акценты в развитии основной темы. Одна и та же ситуация, как в кривом зеркале, отразилась в разных временных пластах. Противостоят и поры года: весна (цветет миндаль) и осень (“дым ад спаленых лістоў”), которые заключают в себе подобие-контраст (рождение, в котором заложено умирание – и умирание, с надеждой на возрождение).
Лейтмотив стихотворения – разочарование в жизни. И невозможность ответа, разрешения вопроса, что лучше: смерть с наслаждением, когда все изведано, и последняя ступень неизведанного – только смерть, или смерть как наивысшая степень отчаяния, когда не все изведано, но и не хочется все изведать, как полное неприятие сущего, нежелание его. В стихотворении, казалось бы, две смерти (“з прыветам” и “грозны жэрабій”). Но на самом деле смерть – одна, всех уравнивающая, всех объединяющая.
М. Горецкий к теме самоубийства в своих произведениях обращался неоднократно, особенно в раннем творчестве. Здесь и загадочная, так до конца не выясненная смерть “чорнай, вірлавокенькай, з сумным поглядам, шаснаццацці гадкоў яўрэйкі Муси из рассказа “Красаваў язмін” (вводится посредством вопроса главного героя: “Самагубства? – з балючай цікавасцю ў дрыжачым голасе запытаўся я ў тае ж самае таварышкі нябожчыцы Мусі”). И не менее загадочная смерть (исчезновение?) Владимира З. из “Руні” (“Для свае радні і знаёмых ён па мёр. I так думаюць, што ён зрабіў самагубства…” “Даходзяць, што ён утапіўся, цела ж я го не знайшлі”).
Герой М. Горецкого Владимир З. дает объяснение причины возможного самоубийства. Она целиком соотносится с причиной самоубийства римского патриция из “Александрийских песен” М. Кузмина или И. Ивановой из “Дзвюх смярцей” М. Богдановича. Это – трагическая ирония, характерная для кризисных эпох, с фатальным ощущением драмы человеческого бытия, конфликта между личностью с ее надеждами – и неумолимой судьбой, когда все разумные намерения и стремления осуждены на исчезновение (из писем Владимира З.: “А ты здольны, ты зможаш пісаць, ты павінен працаваць, ты тое-гэта... Пасунь уперад, праслаў родную старонку. Нічога не маю я у сабе. А каб і геній быў я, – усё роўна. Навошта? Усё некалі будзе невядомым, усё цяперашняе згіне”; “Ты – вышэй звычайнага чалавека сваім духам, але дух твой цяжка хварэе, бо сам сабе дайшоў ты смерці ў філасофіі сваёй”).
Однако произведение М. Горецкого построено таким образом, что так до конца остается неясным, что же случилось с Владимиром З. Знакомство с Ядей К., слова “ідзём долю каваць за моры, акіяны” дают надежду на лучшее, как и само очень символичное название рассказа – “Рунь”.
Наиболее полное, страшное воплощение тема самоубийства у М. Горецкого получила в “драматическом образке” “Антон”. Автор натуралистично описывает сцену самоубийства: “Высока падняўшы галаву, водзіць касою сабе па горле, перш тупым бокам; рука трасецца, увесь ён калоціца; перавярнуў касу і шмуляе па глотцы... Кроў чырвона-чорная палілася цурочкамі па жупане. Выкаціў вочы, патроху схіляецца набок; каса валіцца, абпэцканая у кроў. Белы-белы, дзе няма крыві, ляжыць і стогне. Ліцо сказілася ад мукі. Кроў цячэ... Многа крыві... Яна патроху чарнее і запякаецца на сонцы, хоць яно ужо на захадзе”. В произведении называются и возможные причины самоубийства Антона Жабона: “Адны шукаюць IX у незадаволенасці самагубцы сваім бацькам, лесніком тутэйшых папоў, п’яніцаю і гулякам, другія гавораць аб хваравітай набожнасці пакойнага і яго цягаценню да ўсяго таёмнага; доктар знайшоў у мазгу невялікія заломы; дзед і прадзед Жабона – алкаголікі; Антон Ж. гарэлку не ўжываў; жыў у беднаце, не ўсягды маючы хлеба”. Символично, что причины эти обсуждают польский публицист, московский демократ и белорусский автор, а главная тема их беседы – белорусская литература и новый тип человека, сознание типа “нового белоруса” в ней.
Нет смысла доказывать актуальность этих рассуждений для нашего времени, уже более чем через 80 лет после написания произведения М. Горецким (датируется 1914 г.), когда мы становимся свидетелями если не добровольного самоуничтожения, то, по меньшей мере, самоуничижения целой нации – нации белорусской.
И все же хочется довериться М. Горецкому, который заканчивает свое произведение о самоубийстве словом “Жыць!”.
ПУТЬ И ВЕЧНОСТЬ ПАТМОСЦА
Символ в мифопространстве “Скарбаў жыцця”М. Горецкого
“Скарбы жыцця” Максима Горецкого – одно из самых сложных произведший в белорусской литературе, и прежде всего – с точки премия литературной герменевтики. По мнению американского литературоведа Хэролда Блума, “гениально то, что не может быть ассимилировано”. “Скарбы...” как художественное целое практически не поддаются “литературоведческой ассимиляции” – некоей унификации, расшифровке. Философский символизм этого произведения М. Горецкого не может быть сведен только к сумме аллегорических смыслов (в предисловии к первой публикации в журнале “Полымя” (1993, №2) “Скарбы жыцця” были окрещены “образками-аллегориями”).
Уникальность “Скарбаў жыцця” связана прежде всего со специфичностью их художественного пространства, которое, бесспорно, есть пространство мифологизированное, представляющее собой своеобразный “симбиоз” языческой, христианской и окказиональной мифологических систем. Принципиально важно то, что мифопространство “Скарбаў жыцця” структурируют не мифологемы, а архетипы: имеется в виду противопоставление в концепциях мифологической критики мифологемы (mytheme) как сознательного заимствования автором мифологических мотивов – архетипу как бессознательной репродукции этих мотивов. Мифологизация М. Горецким текстового пространства “Скарбаў...” воспринимается не как префигурация (“подчеркнутый” художественный прием), а как результат символического осмысления действительности, в чем, собственно, и заключается суть мифотворчества, ибо “миф уже содержится в символе, он имманентен ему” (Вяч. Иванов), миф вырастает из символа, понятого как реальность, подобно тому, как колос вырастает из зерна.
“Входом” в мифопространство “Скарбаў жыцця” становится символ врат в нем реализуется (как бы “персонифицируется”) архетип межи, отделяющей действительность от “мира иного”. В “Скарбах...” М. Горецкого мы имеем дело с символами “второй степени” (Л. Лосев): они предопределяют переживание художественного текста как указания на некоторую инородную перспективу, на бесконечный ряд возможных превращений. Символ в данном случае рассматривается как принцип конструирования хронотопа, как арена, где встречаются определенные конструкции сознания с теми или иными предметами этого сознания.
“Скарбы жыцця” – художественное целое в строгом смысле. Структурная устойчивость и завершенность мифопрострапства связаны здесь с системностью отношений между символами (врата, вечность, маскарад, еtс.). Так символ врат как бы продолжается в архетипе пути (“цярнёвай дарогі”) одном из самых важных архетипов в белорусской культурной парадигме: “Адчыніся ж ты, брама, нарэшце!.. О мой край! О мой шлях!”
Путь у М Горецкого пролегает через вечность-пространство в вечности-времени. Именно интерпретация образа вечности в “Скарбах...” наиболее ярко демонстрирует специфичность авторской мифологии: иначе говоря, оригинальность индивидуальной мифологии (как и ее целостность) обусловлена той системой отношений, которая устанавливается в тексте между центральными символами. Вечность образует своего рода сферу (сферический “хронотоп”), в рамках которой и осуществляется здесь – бытие для так называемого я – героя. У каждой “вещи” – своя вечность: “Узіраюся ў вечнасць. Пыл, пот, крыжыкі на грудзёх – як у мангола выразаны з каменя абраз змеяпадобнае свінні, – і марудны, а бясконцы крок, вечнасць... Вечнасць!”; “Смех, жарты. Святкі Гуляюць падарожнікі. Гуляюць, кружацца у безуважнай, немай вечнасці”; Гоман сціха-пакорны. Пах ладану і мёртвага цела. Полымя ад жоўтых свечачак: у полымі – вечнасць...”; “Рудая лычкастая свіння, з доўгім, голым, маршчынаватым хвастом, са шчэццю стаяком на хрыбціне, рохкае, рыецца у сваей вечнасць (выделено мной. – И.Ш.)”. Но каждая индивидуальная вечность – элемент универсума, суть которого определяется автором “Скарбаў...” через понятия хаотичности и абсурдности.
“У чорнай цямноце віхор вечных прастораў” – так вербализуется символическая формула-структура хронотопа “Скарбаў жыцця”. Оказывается, что хаотическое бытие “вещей” (“Тое, што завуць: бог, любоў, павіннасць, праўда, ідэал – усё яно дробненька круціцца у вечнасці, і туды і сюды, і так і гэтак”) и есть вечность для я-героя. Мы становимся свидетелями измельчания бытийных смыслов в пространстве вечного (а потому безграничного) абсурда.
Поскольку вечность в “Скарбах жыцця” осмысливается М. Горецким как нечто абсурдное, безысходное, бесцельное, то архетипический мотив путешествия-поисков (счастья, правды, смысла существования, еtс.) “материализуется” в символе лабиринтообразного и, главное, не единственного пути: “I я пайшоў. Старыя дарогі пераступіў. Новыя шляхі рассцілаліся прада мною. Сілам сваім рабіў парад. Зброю сваю аглядаў. На новыя баі рыхтаваўся... вялікія баі”; “Колькі там ходаў, колкі там выхадаў, высокіх і нізкіх, шырокіх і вузкіх, светлых і цёмных, ходаў і выхадаў жыцця. <...> Лёс мой – на ростанях стаяць, пэўных дарог сваіх не ведаць, у лесе думак і ўчуццяў блудзіць”. Вечность как символ хаоса предопределяет понимание пути как символа бессмысленного, абсурдного движения в никуда – в вечность-хаос, в вечность-абсурд: “I колькі я ж йшоў шляхамі сваімі – заўсёды памыляўся”.
Очевидно, что отношения взаимного детерминизма, установившиеся между двумя центральными символами, определяют, в свою очередь, специфику художественного пространства “Скарбаў...”.
Репрезентация реальности посредством символов, наряду с процессом мифопоэтической символизации, – важнейшие аспекты выделения культуры из некультуры. Символизация рассматривается как основа мышления, основа любого понимания и обозначения – как фундамент всей коммуникации и культуры. Не желая свести суть искусства к “метафорическому символизму” (С. Лангер), стоит все же обратить особое внимание на значительность роли символа в создании метатропа – своего рода “несущей конструкции” художественного пространства “Скарбаў...”. Так символ пути функционирует как организующее начало, некий принцип моделирования. Путь (точнее, клубок путей) так или иначе проходит через фрагменты-отрывки вечности, возвращаясь в финале к своему началу-концу: “Дык слава жыццю! Слава і смерці!” “Странность” бытия внутри вечностей М. Горецкий выражает через символ маскарада: “Разбой у цямноце ночнай закіпіць. Пасохлая ніва пасыплецца на чорны дол. Патмосец жаласна заенчыць... На тым маскарадзе бачыў я страшны хадзячы шкілет. I скамянеў ад жалю”. В свою очередь глубинный смысл зловещей фантасмагории расшифровывается с помощью символического образа поезжан, которых даже смерть не избавляет от Пути: “Едуць, едуць паязджане! Едуць, едуць госці дарагія! У кашулях вышываных... Круглымі вачыма глядзяць. Пахам тлену павеяла на мяне”. “Скарбы жыцця” вообще представляются “клубком символов”, распутать который до конца, вероятно, вряд ли возможно, поскольку даже отдельный символ обладает гораздо более древней культурной памятью, нежели память его текстового окружения.
По мнению К. Ясперса, только символическое сознание, опирающееся на экзистенциальный опыт конфликтных или поворотных ситуаций своего времени, способно выявить нечто истинное. М. Горецкий в “Скарбах жыцця” кодирует свой образ мира в символических формулах: необходимость “рассказать себя” актуализирует символ как элемент “другого языка” (своего рода метаязыка). Этот зашифрованный образ мира, по сути, есть миф – “повествование” об отрезке действительности, в которую включен субъект. “Скарбы жыцця” – трагически-пронзительный миф о сломанном мире, где, казалось бы, отсутствует мотивация движения, поисков – исчезает мотивация к жизни: “Хаджу, шукаю, – і нічога не знаходжу. <...> Цёмны шляхі мае. Цёмна ў мяне на сэрцы. I хатыль жыцця цяжак мне цяпер, як камень на шыі тапельцу”; “I якое, аднак жа, шчасце дадзена табе, чалавеча, што залезшы як рыба у нерат – можаш ты сам сабе зрабіць канец, сваім болькам і пакутам... Слава прамудраму ладу жыцця!”
Координаты существования я-героя, осужденного на бессмысленное преодоление собственной судьбы, определяют символы квазивечности и псевдопути: “На горы высокія-высока, за тым бяздоннем, з вялікім трудом лезу... Высока-высока ўзлез! Высока-вялікія прасторы вакол сябе ўнізе бачу... I з вельмі апалым сэрцам апынуўся я у склепе пад зямлёю”; “Сонейка мне грэла. Ціха было вакол. Толькі травы калышуцца шумам бясшумным... I добра было мне ляжаць, добра было мне нікуды не йсці. Ляжаць, не рухацца і не думаць... <...> Мусіў устаць. Мусіў ісці. Думкі мае цягнулі мяне ў адзін бок, сэрца маё цягнула мяне у другі бок...” Христианский мотив мессианства (“Пайшоу, хадзіў бязмэтна... А мэта была у мяне, только я не ведаў, што яна ёсць, што яна цягне мяне”) трансформируется в экзистенциальный мотив борьбы с собственной несвободой (“Жыццём даражыць навучыўся. I да смерці сябе рыхтаваць я умею”).
“Скарбы жыцця” М. Горецкого - в белорусской литературе еще и первый – и блестящий – пример “светлого экзистенциализма”, который обнадеживает вопреки себе самому: “I думаў я пра смерць сваю і пра бога свайго. Смерці прыходу чакаў пакорна і панура, як вол даўбні. <...> Шукай свой човен залаты! Едзь на выспу Патмос. Даўно там не быў. Духам аскудзеў. О сонца светлае-прасветлае, абагрэй ты мяне! Далёкая выспа Патмос! Там прытулак...”
Сконденсированность символов в “Скарабах жыцця”, напряженность художественного пространства создают впечатление адекватного воспроизведения действительности. Символизм “Скарбаў...” принципиально не может быть отождествлен с литературно-художественной практикой и французского символизма 80-х годов XIX века, и русского символизма конца XIX – начала XX столетий. И прежде всего потому, что для символистов symbolon – это слово: слово-ребус, слово-ракурс для французов – смотрителей музея бодлеровских “соответствий”; слово “возопившее”, разрываемое на куски для русских – мистиков и богоборцев. Для М. Горецкого создателя “Скарбаў...” – символ есть вещь, плоть мира реального. В “Скарбах жыцця” символ изначально экспрессивен: он не столько выявляет сверхбытие на уровне бытия, сколько организует встречу этих двух “миров” в пространстве абсурда: “Страшнае дзіва закрычэла праразліва і загрукатала міма мяне з шумам жыцця вялікім”. – “I прасіў я паратунку ў выспы Патмос. Словы мае – слёзы мае”; “Стрыкоча птушачка у ціхім блакіце светлых нябёс. I скрыўленыя набок санкі у крыві; рот вечна смяецца – мёртвы. Скручанае цела. I яшчэ таю, і яшчэ. Наўзнак, на баку, з падвёрнутымі рукамі,з падкорчанымі нагамі ракам, ніц... Трупы падарожнікаў (выделено мною. – И.Ш.)”. – “Будзеш на выспе Патмос. Восплачешь и возрыдаешь горько... I паглядзець яна весялей на цябе. I палягчэе табе. Усё жыццё праляцела, як адзін дзень. Усё яно – як на далоні. Восплачу и возрыдаю”.
Однако важно обратить внимание на типологическое сходство некоторых мотивов и их художественного воплощения у М. Горецкого и классика французского символизма Мориса Метерлинка: стоит сравнить хотя бы приведенные отрывки из “Скарбаў жыцця” со следующей цитатой из пьесы Метерлинка “Непрошеная”: “Не знать, где находишься, не знать, откуда идешь, не знать, куда идешь, не отличать полдня от полуночи, лета от зимы... И эти вечные потемки, вечные потемки... Я предпочел бы умереть...” Достаточно иллюстративно и сопоставление образов слепых из одноименной пьесы Метерлинка с образом странников из “Скарбаў жыцця” Горецкого: “Палятняныя хатылі на плячах. Сляпыя вочы. I цёмныя потныя крыжыкі на відных з сарочкі худых грудзёх, там дзе цьмяны ад сонца пасак на деле. Наўкола – жудасна-ціхая пустэльня. А ў ёй - шарпанне ног крок за крокам. Жудасна- марудны крок. Вечнасць. Хада”.
Именно экспрессивность как определяющая характеристика символа в “Скарбах...” избавляет и сам символ, и произведение в целом от того “дидактизма”, своеобразной императивности, которые так или иначе проявляются в текстах “последовательных” символистов. Вероятно, поэтому мифологизм “Скарбаў жыцця” воспринимается не как префигурация (художественный прием), а как естественный способ повествования о здесь-бытии, единственно возможный способ “рассказать себя”: “Страшным, балючым крыкам здань галасіла: “Быў жа ў мяне адзін бог, і няма яго! Быў жа ў мяне і другі бог, і няма яго!” Я не адгукаўся на той жудасны крык. Замкоў сваіх не кранаў. Браму скарбаў сваіх на крык не адчыняў. А любіў я песню купальскае ночкі. А любіў я і жытні каласок. Сядзеў, слухаў і моўчкі ўспамінаў, як беглі вар’яты, як яны крычэлі “Выдыбай, божа, выдыбай!” Я маўчаў. Бо што я мог сказаць?”
Таким образом, символ в “Скарбах жыцця” – и принцип моделирования мифопространства, и неотъемлемая часть его художественной структуры, которая во многом определяется системой отношений между символами в произведении, Оригинальность же индивидуальной авторской мифологии в “Скарбах жыцця” связана прежде всего с экспрессивностью созданных М. Горецким символов – судя по всему, непреходящих в своей актуальности “фрагментов” белорусского мифа:
“Помніў я дзень кансулътацыйны. На тэрміновы парад ішоў.
Там, у замку гатыцкага стылю, у белай параднай каморы, бачыў я процьму гасцей: вар’ятаў, блазенных I дзівіўся вельмі: адкуль іх столъкі нанясло?
I былі яны у вопратцы панскай і ў простай, у дарагіх скурах і ў простых вяроўках, тлустыя і посныя, голеныя і барадатыя, з абліччам нацый паўночных светлых і з абліччам нацый паўдзённых чорных,і мова ў іх памяшана...”
Михась МУШИНСКИЙ
«МОЩЬ ДУХОВНАЯ…»
Малоизвестные страницы творчества Максима Горецкого
Публицистическая проза занимает значительное место в творческом наследии выдающегося белорусского писателя Максима Горецкого. К сожалению, она до сих пор не изучена, не проанализирована в соотнесенности с другими жанровыми формами в силу многих причин объективного и субъективного характера. Отметим прежде всего то, что разбросанные по газетам и журналам 1910 - 1920-х годов статьи, полемические выступлении, отклики на общественно-политические события нее еще не собраны и не изданы. Что касается материалов, напечатанных и дополнительном томе единственного на сегодняшний день Собрания сочинений в четырех томах («Творм», 1990), то они – увы! – не дают полного представления о подлинном облике Горецкого-публициста. И это вполне объяснимо: ряд выявленных к тому времени проблемных статей писателя не вошел в указанный том по идеологическим соображениям. Материалы смоленского периода (октябрь 1917 – начало 1919 гг.), то есть период сотрудничества писателя с советской властью, худо-бедно представлены («Будем жить!», «Новая буржуазия», «Няхай жыве камужстычная Беларусь!»). А вот публицистика Виленского периода, «оппозиционного» смоленскому, периода (начало 1919 – осень 1923 гг.) подана более чем скромно, по сути в нейтральных или в неполемических образцах («Тутэйшае жыццё», «Гуртуйцеся!», «Любіце польскі народ», «Выбары ў польскі віленскі сейм». Все – 1921 г.). На основе этих немногочисленных публикаций трудно определить политическую ориентацию писателя, место данной жанровой формы в его творчестве виленской поры. А между тем в газетах «Наша думка» (редактирует в декабре 1920 – апреле 1921 гг.), «Беларускія ведамасці» (основатель и издатель-редактор на протяжении сентября 1921 – января 1922 гг.) помещены материалы, по-новому представляющие М. Горецкого как писателя-гражданина, патриота, просветителя. И прежде всего они помогают разобраться в эволюции его мировоззрения, во внутренних закономерностях становления как национального художника. Подчеркнем еще раз: публицистика М. Горецкого виленского периода, за небольшим исключением, на протяжении почти 80-ти лет не перепечатывалась, современному читателю она фактически неизвестна.
И еще одно принципиальное замечание. То, что публицистика оказывается сегодня в центре внимания исследователей, вполне закономерно: многие писатели, очевидно, разочаровались в возможностях изящной словесности позитивно влиять на общество, а потому обращаются к читателю напрямую, с публицистическим словом, в надежде, что оно окажется более эффективным, действенным в преодолении тех деформаций, искажений, несуразностей, которыми переполнена современная жизнь. В этой связи определенный интерес представляет и тот факт, что организаторы Купаловских научных чтений вот уже второй год заглавную тему конференции формулируют как тему публицистическую. А это означает, что идейно-творческие достижения Я. Купалы в публицистике имеют непреходящее общественно-культурное и художественное значение, становятся фактором духовной жизни современника. Подобной оценки заслуживает и публицистическая проза М. Горецкого, в том числе созданная в виленский период.
Что же она собой представляет? Прежде всего бросается в глаза широта писательских интересов, идейно-тематического многообразие статей и выступлений. Однако доминирующее место в публицистических материалах занимает национальная проблематика: положение трудящихся Западной Беларуси в условиях социального и национального угнетения; судьба белорусского языка, литературы, школы, образования, печати; перспектива воссоединения принудительно разделенной территории и единое демократическое, самостоятельное государство; характер и особенное национально-освободительного движення и условиях буржуазной Польши, формы и средства борьбы за освобождение угнетенного народа. Так, одна из статей 1920 года, опубликованная в «Нашай думцы» 24 декабря, озаглавлена «Боритесь!». Но против кого призывает сражаться публицист, во имя каких идеалов «У нас, белорусских крестьян и рабочих, немало национальных и социальных врагов, но наихудший наш враг – наша несознательность и бездеятельность».
Право же, несколько неожиданный вывод. Тем более, если иметь в виду, что он принадлежит писателю, который незадолго до того предсказывал: скоро российские пролетарии вместе с трудящимися всех стран «плечо в плечо... пойдут в крестовый поход и низрииут Молоха и разметут его алтарь» («Творы», 1990). Почему же М. Горецкий отдает предпочтение мирному труду перед вооруженном борьбой? Да потому, что изменилось его мировосприятие, понимание путей достижения счастливого будущего. Революционный, кровавый путь, насилие им нынче не принимаются, не признаются как оправданные с моральной точки зрения. Писатель считает необходимым вначале «пробудить» западнобелорусского крестьянина. Общественная пассивность, утрата веры в свои силы – вещь опасная. С нескрываемой горечью говорит писатель о губительных последствиях человеческого равнодушия. Его мысли созвучны пророческим призывам публицистики Янки Купалы 1918-1920 годов. «Из-за нашей несознательности и равнодушия, утверждает М. Горецкий, с нами злые люди делают все, что хотят. У нас отняли наше имя, переделали одних па москалей, других на поляков. У отнимали и отнимают наших сыновей и посылают их брат на брата».
К сознанию беларуса, не беспокоящегося о своей судьбе, как раз и апеллирует. М. Горецкий в надежде оказаться услышанным. Отсюда – сочитание в его призывах высокий патетики и бытовой конкретности, пафоса и логики.
О том, что общественная пассивность жителей заподно-белорусской деревни, хкутора, местечка остро волновала М. Горецкого, свидетельствуют многие его статьи. В одном из газетных обращений («Беларусы бярыцеся за грамадскую работу» («Беларусюя ведамасці, 1921, 3 октября) писатель прямо говорит: хватит сетовать на плохих польских начальников, «потому как во многом виноваты мы сами». Конкретное проявление пассивности автор статьи видит в том, что, например, не используются права национальных меньшинств, предусмотренные конституцией Польши и гарантированные Версальским договором. А в результате – отсутствие народных депутатов в верховном органе страны. Если избирателям удастся провести в парламент своих представителей, то народные избранники смогут «публично протестовать в сейме и требовать наказания обидчикам и оскорбителям. Они будут защищать не только родную культуру, не только духовные интересы, нрава, но и экономические нужды”. Последовательно проводится идея мирного решения социально-экономических проблем, возможность использования революционных методов борьбы даже не упоминается.
Автор статьи не ограничился, однако, постановкой острых вопросов, а попытался вскрыть глубинные истоки общественной пассивности угнетенного человека: «До сих пор белорусский крестьянин сторонился общественной работы, каждый боялся высунуться вперед, чтобы не утратить жизненное спокойствие. Понятно, на это были определенные причины. Если кто с горячим сердцем справедливого человека и совестливого гражданина и выскакивал вперед, то он не чувствовал за собой общественной силы, не имел поддержки. Напротив, темные, забитые люди, разбежавшиеся от его несчастья, как воробьи, даже злорадствовали: «Ну что? Выскочил? Попался!» То, что Горецкий-публицист обращается не только к экономическим факторам, но и к социально-психологическим, весьма показательно: такой подход придавал публицистическим статьям особую весомость, ставил их рядом с собственно художественными произведениями, сближал с аналитической прозой.
Эти весьма ценные для публицистики качества демонстрирует и статья «Загадка московских коммунистов» («Наша думка», 1921, 14 января), в которой писатель показал себя не только страстным трибуном, полемистом, но и мыслителем-аналитиком, способным видеть внутреннюю связь между разрозненными явлениями, склонным к прогностике, к предвидению отдаленных результатов развития событий, политических решений. Впечатляет смелость Горецкого в постановке актуальных проблем эпохи. В статье убедительно рассказывается непоследовательность «московских коммунистов» в осуществлении национальной политики па окраинах бывшей царской России. Это – ошибочная политика, она вступает и противоречие даже с «прагматическими установками партии» согласно которым каждая нация имеет право на самоопределение. На практике же партийные деятели, руководствующиеся принципами диктатуры пролетариата, «душили духовное возрождение угнетенных народов», мешали их свободному волеизъявлению. М. Горецкий как последовательный защитник интересов белорусского народа предъявляет серьезные претензии руководителям, ответственным за национально-государственное строительство: «Интернационалисты на слонах, они оказались на деле ужасными контрреволюционерами в национальном вопросе», а методы их руководства мало чем отличаются от «способов царского режима».
Автор статьи обращает внимание еще па одну принципиальную ошибку московских деятелей: движение за национальную свободу угнетенных народов они восприняли как движение буржуазное, как проявление борьбы за «буржуазные интересы. И тем самым посодействовали не дифференциации национальной буржуазии и сознательных пролетариев, а дружному объединению всех классов в деле защиты общенациональных интересов». Иными словами, вместо многочисленных сторонников коммунистическая власть получила на окраинах «фанатических врагов» со всеми трагическими последствиями.
М. Горецкий приветствовал провозглашение независимых советских республик как историческое событие. Но присоединение ряда областей – Смоленской, Витебской, Могилевской – к России не мог оправдать. «Или ним узаконивалась старая ификаторская работа? Или этим проводили политическую границу против враждебных наступлений Запада? Иди ещё что-то?»
М. Горецкий в эпицентре событий, связанных с решением судьбы белорусского народа. Идея самостоятельной, независимой Беларуси оставалось для него главной, определяющей.
Свое продолжение и конкретизацию и правительстве Белорусской Народной Республики” («Наша думка», 1921, 14 января), где обосновывается законность с юридической точки зрения БНР как государственного образования, легитимность ее правительства. «Каждый, кто признает Белорусскую Независимую Республику в принципе, тем самым признает и ее правительство, которое имеет законные права называться правительством этой Республики». В своих рассуждениях М. Горецкий исходил из мысли о том, что необходимость собственного государства для белорусского народа диктовалась логикой истории. Автор статьи не посчитал нужным углубляться в историю ВКЛ, а сосредоточился на современных событиях. Он, в частности, упоминает третью сессию «Центральной Рады Белорусских Организаций и Партий» (октябрь 1917 г.), после которой «четко проявилась необходимость создать государственно-правовое учреждение, которое взяло бы в свои руки власть, и заложить основы белорусской Республики». Ради этого проводились многочисленные съезды – фронтовые (западного фронта - в Минске, северного - в Витебске, румынского - в Одессе, юго-западного - в Киеве), белорусов-беженцев (в Москве, Минске), учителей, других организаций (в Смоленске, Полоцке). На этих представительных форумах и решено было созвать в 1917 году Всебелорусский съезд в Минске (5-17 декабря по старому стилю). В соответствии с оценкой М. Горецкого, данный съезд как раз и стал «наиболее полными серьезным волеизъявлением Белорусского народа...» Этот вывод характеризует писателя как последовательного защитника народной власти, независимого, суверенного государства – Белорусской Народной Республики.
Говоря о способности Горецкого-публициста видеть внутреннюю связь между разрозненными явлениями, предсказывать, в каком направлении могут развиваться события, нельзя не заметить того, что некоторые его суждения оказались поистине пророческими. Речь идет о трудностях, связанных с национальным возрождением. Интересна в этом плане статья «О белорусском языке в школе» («Беларускія ведамасці», 1921, 14 сентября), в которой сообщалось, что ориентированные на Польшу представители виленской общественности развернули на страницах местной печати дискуссию – на каком языке должно вестись обучение в школе. М. Горецкий в этом вопросе четкую, бескомпромиссную позицию: «Было бы странно и глупо спрашивать у россиянина, хочет ли он русскою языка и своей школе? Было бы чушью спрашивать о том же у немца, француза или латыша, или эстонца.
Почему же тогда с глупыми вопросами можно обращаться только к темному белорусу? (…)
Педагогическая наука давно пришла к выводу, что учить детей надо на родном языке, на языке матери».
События, происходящие сегодня в Беларуси, демонстрируют перед цивилизованным миром то, что не ушли с исторической арены деятели, готовые обращаться к белорусу все с теми же «глупыми вопросами» – на каком языке он хочет учить, собственных детей? Семидесятилетнее воспитание народа в духе пролетарского интернационализма, увы, принесло горькие плоды! Публицистика же Грецкого направлена на то, чтобы помочь тем жителям земли белорусской, у кого атрофировано чувство национальной гордости, осознать гибельность пути, по которому они идут в завтрашний день, осознать место и роль национального начала как приоритетного в системе духовных ценностей.
Отстаивая право каждого народа учиться на родном языке, М Горецкий в статье «Важный фронт» («Беларускія ведамасці», 1921, 19) сентября) попытался раскрыть причину незавидного положения белорусской школы на Виленщине. Её следует искать, опять же в пассивности белорусского крестьянина, который равнодушно наблюдал за тем, как во многих уездах закрывались белорусские начальные школы и открывались польские. Деревенский житель всячески сторонился выборов в гминные управы, поэтому туда вошли защитники польских интересов. «Учительство наше как самый культурный элемент в белорусской деревне, – подчеркивает Горецкий, должно поставить перед собой задачу: взять руководство гимназии из недостойных рук в руки подлинных представителей народа». Писатель, как видим, возвращается к волнующей его теме, вновь говорит о необходимости активизировать народные низы, вовлечь их в общественную деятельность, чтобы совместными усилиями найти выход из сложившегося положения.
Но ошибочно полагать, будто М. Горецкий, отмечая устойчивое нежелание белорусского крестьянина, ремесленника вмешиваться в политику, не видел и привлекательных черт в его характере. У нас нет оснований упрекать писателя в односторонности взгляда на белоруса, на его ментальность, сущностные качества натуры. Об этом красноречиво свидетельствуют прежде всего многочисленные рассказы, повести, романы, драматические произведения Горецкого. Но и в публицистике писатель остался верен себе, он и здесь смог высказать о человеке-труженике взвешенное суждение, раскрывающее фундаментальные качества национального характера белоруса. Среди этих основополагающих качеств названы прежде всего справедливость и простота. «Наши идеи, наши мысли, – подчеркивается в статье «В чем наша сила?» («Наша думка», 1920, 31 декабря) – справедливые. Мы никого не понуждаем отрекаться от своей нации, от своего могущества, от своей национальной свободы. Мы не требуем, чтобы в Москве или в Варшаве тамошний народ записывался в белорусы, чтобы он просил Лигу Наций о присоединении его к нам, к Беларуси. Мы не идем ни туда, ни сюда со своими порядками, со своей бранью и кнутом. Нет, идея наша справедливая, и мы не желаем другому того, чего не пожелаем себе».
М. Горецкий убеждает слушателя и читателя логикой мысли, неопровержимостью аргументации. Отсюда и убедительность его выводов. Посмотрите, говорит писатель, на нынешнюю ситуацию: у наших врагов есть армии, есть деньги, они организованны, а у нас на сегодняшний момент нет ничего, «кроме нашей духовной силы» и чувства справедливости. Вот почему наши враги не могут нас победить.
Какое огромное значение придавал М. Горецкий духовной субстанции, духовным началам жизни, видно и из его последующих рассуждений: «Глупец тот, кто верит, будто в наше время можно присоединить чужую землю и переделать на свой лад чужой народ. Прошли те времена. И тот, кто ныне отрекается от своего простого языка, скоро очень-очень пожалеет. Мощь духовная перельется в материю и все снесет со своей дороги».
Естественно, публицистические статьи М. Горецкого – это не совокупность бесспорных утверждений, а результат напряженных поисков, глубоких размышлений. Так, вряд ли можно согласиться с авторским тезисом, согласно которому идея справедливости как один из органических компонентов белорусского менталитета объясняется классовой однородностью этой нации, тем, что «среди белорусов нет господ» («панов»). Это «панам», дескать, нужны войны, захват чужих земель и т. д. «А простой народ, с другим простым народом всегда будут жить в согласии и мире». Очевидно, здесь мы имеем дело с явным полемическим заострением, допустимым в публицистическом жанре. Но заострение, как известно, не всегда согласуется с логикой. И действительно, если придерживаться точки зрения автора, то национальную буржуазию, представителей буржуазной интеллигенции следует вывести из состава нации. Ради каких целей? Как «нации без господ» строить отношении с соседями, если там «паны» все-таки есть? Неужели «согласие и мир» и таком случае невозможны? Увлеченный идеей «свободы, равенства, братства», Горецкий-публицист опережал время. Романтическая мечта выдавалась за реальность. Анализируя истоки полемических издержек Горецкого, необходимо учитывать конкретные обстоятельства того времени, критическое отношение писатели к империалистическим государствам, к их агрессивной внешней политике, а также учитывать стремление публициста определить характер возрожденческой деятельности белорусов. «Значит, мы возрождаемся не ради того, чтобы бить, драть, колотить, унижать, а ради того, чтобы создать наилучший тип «простого государства», где господ не будет, а «простой» человек будет хозяином». В трактовке автора статьи «господин» («пап») выступает как синоним олицетворенной несправедливости, неравенства, а понятия «простое» (государство), «простой» (человек) – это аналоги разумного, гуманного общественно- государственного устройства.
Уже отмечалась широта диапазона деятельности Горецкого публициста, активность выступлений на страницах виленских Белорусскоязычных газет. Заслуживает высокой оценки и оперативность его откликов на события общественно-культурной, политической, научной жизни в Западной Беларуси. Объектом пристального внимания Горецкого оказывались взаимоотношения различных конфессий на Виленщиие, в частности, православных и католиков («Никогда этому не бывать!» 1921); антибелорусская агитация различных политических партий, групп и печатных органов польской ориентации («Письмо из деревни», «Где есть белорусскость, или наши маленькие желание» 1921), идейные колебания представителей национальной интелегенции и ее заигрывания с власть предержащими («Белорусские деятели с польской душою», 1921) и др.
Публицистическое наследие Горецкого представляет несомненный интерес и при исследовании особенностей этой специфической формы творчества, его природы. Прежде всего, при изучении вопроса о соотнесенности в публицистике двух начал – политической актуальности и эстетической значимости материала. Публицист, в отличие от поэта, прозаика, драматурга, на первый план, как известно, ставит вопросы, продиктованные насущными задачами текущего дня. В ряде статей М. Горецкий попытался объединить эти два начала. Иными словами, гуманистический пафос, свойственный рассказам, повестям Горецкого, позитивно повлиял и на содержание его публицистики, придав ей – в лучших образцах – эстетическую долговечность. Этот жанр у Горецкого пережил свое время и воспринимается сегодня как художественное явление, а не только как документ прошедшей эпохи. Публицистическая проза М. Горецкого – полноценная часть его творческого наследия.
Обратимся, например, к статье «Больной вопрос» («Наша думка», 1921, 14 мая), где затронута тема трагической судьбы белорусов-беженцев. Статья представляет собой полемику ее автора с Т. Гартным, в ходе которой обозначились два различных подхода к решению проблемы. Гартный полагал, что уехавшие из Гродненской, Виленской и части Минской губерний (территории, согласно Рижскому договору, вошедшие в состав Польши) не должны возвращаться на прежнее место жительства, поскольку польским властям нет надобности о них заботиться. Поэтому правительство Советской Беларуси, дескать, обязано расселить беженцев «на коммунальных хозяйствах», и пусть они здесь трудятся в ожидании «лучших времен». Утверждения Т. Гартного М. Горецкий оценил как ошибочные в своей основе и вредные в конечном результате. Гартный оперировал чисто классовыми понятиями, а Горецкий исходил из интересов конкретной человеческой личности. Выступая от имени западнобелорусской части народа, автор «Больного вопроса» решительно заявлял: «Именно мы и вы должны приложить все усилия, чтобы все здешние беженцы как можно скорее сюда вернулись. Ибо, товарищ Жилунович, знайте, что отсутствие до настоящего времени беженцев из белорусских земель, которые ваши российские товарищи отдали польским папам «в лапы», есть не только огромный вред для белоруской нации, но и вообще опасная вещ, с любой точки зрения и даже большевистской...»
Смысл данной полемики ясен: судьбу беженцев Гартный осмысливал в связи с известной установкой большевиков на свершение мировой революции, Горецкий – и свете задач построения единого белорусского государства, возрождения национальной культуры. Согласно убеждениям Гартного, белорусское государство якобы можно было создавать и без тех территорий, которые охватывали Виленщину, Гродненщину, часть Минщины. С таким подходом Горецкий, естественно, не мог согласиться, как не мог он пройти мимо высказываний относительно того, кто же виноват в безмерных страданиях белорусов-беженцев? Гартный безапелляционно возлагал ответственность на «белогвардейцев», генералов и господ, выброшенных революцией». Дескать, это они «наделали фронтов», создали непреодолимые преграды тем, кто хотел вернуться в родные края. М. Горецкий, соглашаясь с Гартным, предлагает вместе с тем в целях исторической справедливости расширить круг виновников народных бед и страданий: «Да, но чтобы не быть односторонним, следует также сказать, что в указанной беде виноваты не только белые генералы и господа, но, к сожалению, также и «красные», их бестолковщина и глупость, их порядки, часто-густо устанавливаемы бывшими царскими прислужниками, а на Беларуси и для Беларуси, кроме того, разными пришельцами и русификаторами, коммунистами на словах и подлинными черносотенцами в своей заскорузлой душе».
Тема возвращения творчески активных, национально сознательных сил на Беларусь получила неожиданный поворот в статье «О белорусских писателях» («Наша думка», 1921, 4 марта). Находясь в Вильне, М. Горецкий тем не менее посчитал необходимым обратиться к белорусскому советскому правительству в Минске с призывом предпринять практические шаги, дабы ускорить приезд на родину известых писателей, деятелей культуры, без которых невозможно национальное возрождение. Власти должны создать этим людям нормальные условия для жизни и творческой работы. Очевидно, автор статьи не располагал документальными сведениями о жизни Я Колоса в Курской губернии, но сумел, однако, с исключительной достоверностью раскрыть и передать весь драматизм ситуации, в которой оказался Колос, человек и писатель. Не только бытовые, материальные но и моральные, психологические факторы в их взаимопереплетении приняты во внимание Горецким. Колос, пишет он, «рвется домой всеми силами, но, имея семью, потеряв здоровье и голодая на нищенскую пенсию начального учителя, никак не может вырваться из глухого уголка Советской России, куда забросила его лихая доля. Хочется надеяться, что за долгое время разлуки с нашей литературной общественностью он написал много произведений со всем размахом зрелого поэтического таланта, но не верится, чтобы указанная обстановка содействовала его творчеству, особенно из-за невозможности печататься и из-за духовного одиночества».
Приведенный фрагмент – яркий образец проблемной, аналитической публицистики М. Горецкого. Автор статьи продемонстрировал тонкое понимание психологии художника, своеобразия его внутреннего мира и роли тех факторов, которые позитивно и негативно влияют на творческую деятельность. Из рассуждений Горецкого следует, что национальному писателю и первую очередь необходима соответствующая культурно-языковая среда, возможность регулярно публиковаться, ощущать неразрывную связь с читателем, проверять на аудитории собственные мысли, суждения. Оторванность от родины, одиночество, бедность не способствуют нормальному развитию, а тем более расцвету творческого потенциала, даже если речь идет не о начинающем, а об известном, опытном мастере, каким уже был в начале 20-х годов Я. Колас.
Призывая правительство активно вмешаться в судьбу поэта, Горецкий, однако, не пошел на компромисс со своей совестью, не стал утешать себя иллюзиями относительно гуманизма новой власти: «В Минске не живут, а тлеют не обласканные милостью всесильных, но чуждых белорусскому слову коммунистов пришельцев такие белорусские таланты: поэт Янка Купала, новелист Змитрок Бядуля, драматурги Ф. Алехнович и Владислав Голубок, беллетрист и публицист Язэп Лёсик, а также слабенький белорусский коммунист и хороший, крепкий поэт Тишка Гартный...» Процитированное высказывание позволяет глубже понять причину сдержанного, настороженного, а затем и открыто враждебного отношения ж М. Горецкому официальных кругов после его возвращения в Советскую Белоруссию в 1923 году.
Многие публичные выступления М. Горецкого дают возможность характеризовать их автора как публициста-международника. Горецкий неоднократно демонстрировал склонность к широкому взгляду на проблемы политического характера. Многие деятели, отмечают М. Горецкий, анализируя белорусско-польские взаимоотношения 20 х годом, считающие себя “белорусскими”, в действительности «работают на построение империалистической Польши». Но они почему-то запамятовали, что государственная граница 1921 года – «не есть подлинная граница Польской Речи Посполитой». На эту границу, говорится в статье «белорусские деятели» с польской душой» («Беларускія ведамасці», 1921, 20 декабря), большевики согласились вынужденно. Кроме того, Лига Наций еще не прислала Рижского договора, а посему она не признает и польской восточной границы. Позиция межународного сообщества понятна: оно ожидает, когда в России появится «законное российское правительство», с которым Польша установит, наконец, «твердые границы». Следует помнить, указывает автор статьи, и о том, что в соответствии с большевистской программой «не должно быть вообще никаких границ. И даже ныне существующая граница может рухнуть, когда г. Дзержинский переедет из Москвы в Варшаву». Но поскольку никаких изменений пока не происходит, надо предпринимать практические шаги. В частности, не исключено, что «Западная Беларусь может тогда образовать отдельную государственную часть, более-менее независимую и самостоятельную, так или иначе связанную с Польшей, а быть может, еще и с Литвой.
Не отрекаясь от идеала Независимой и Неделимой Беларуси, мы должны готовиться, и быть всегда наилучшим образом подготовленными ко всяческим тактическим возможностям».
Подтекст ангорских размышлений легко прочитывается: если западным белорусам действительно удастся добиться определенной самостоятельности, то дальнейшая судьба этого государственного образования во многом будет зависеть от уровня национального самосознания, организованности, сплоченности трудовых масс. Иными слонами, М. Горецкий снова выходил на проблему национального воспитания, просветительской работы. Его собственная публицистическая, газетно-журнальная, издательская, педагогическая деятельность была одной из эффективных форм практической реализации этого масштабного плана. Сегодня публицистическая проза М. Горецкого после долгого забвения обретает свою вторую жизнь. Она становится живым явлением литературного процесса и действенным фактором национально-культурного возрождения.
Строительство личности
Биографическая литература, если она не предназначена для массового читателя, — чтение непростое, требующее определенной подготовки. Особенно в том случае, если очерк или книга посвящены ученому, оставившему свой след в естествознании. Книга Радима Горецкого и Валентина Оноприенко «Гавриил Иванович Горецкий» (К.: Информ.-аналит. агентство, 2012. Научно-биографическая литература) посвящена жизненному пути, научным изысканиям человека поистине легендарного. Сегодня он хорошо известен в Беларуси. Но было время, когда ученый не мог жить на родине. Впрочем, несколько штрихов к биографии выдающегося геолога-четвертичника, основателя новой отрасли геологической науки — палеопотамологии (история развития рек и речных долин) Гавриила Ивановича Горецкого. Родился он 10 апреля 1900 года в деревне Малая Богатьковка Мстиславского уезда Могилевской губернии. В 1914-191 гг. родной брат писателя Максима Горецкого был студентом Горецкого землемерного агрономического училища. Затем — землемер-агроном и инструктор по землеустройству Уфимского губземотдела, корреспондент газеты «Известия» Уфимского губернского ревкома. Учится в Уфимском институте народного образования. Последующие годы — в Москве. Работает инструктором по социалистическому землеустройству в Центральном Народном комиссариате земледелия. Учится на экономическом факультете Петровской (Тимирязевской) сельскохозяйственной академии. В 1923—1925 гг. — преподаватель экономической географии Коммунистического университета национальных меньшинств. В 1924— 1928 гг. — сотрудник, аспирант Научно-исследовательского института сельскохозяйственной экономии Тимирязевской академии. И тогда же, в 1925—1927-м, Гавриил Иванович работает заведующим кафедрой сельскохозяйственной экономии и экономической географии, является членом правления Белорусской государственной академии сельского хозяйства в Горках. В апреле 1927 г. Горецкого выбирают членом Президиума и Научного Совета Института Белорусской культуры. 28 декабря 1928 г. ученого утверждают действительным членом (академиком) Белорусской академии наук. 24 июля 1930 г. Гавриила Ивановича арестовали, а в декабре того же года вместе с Вацлавом Ластовским, Владимиром Пичетой, Язэпом Лёсиком, Степаном Некрашевичем, Александром Дубахой исключили из состава академии, «лишив их звания академиков, как врагов пролетарской культуры». Началась новая непростая жизнь.
Гавриила Горецкого приговорили к высшей мере наказания, которую затем заменили на лагерь сроком на 10 лет. Фактически с нуля Гавриил Иванович начал работать геологом. Вот как пишут о том времени авторы книги: «...был принят на работу помощником младшего техника. Этот день — 19 сентября 1931 года стал для Гавриила Ивановича одним из самых счастливых, днем перелома в специальности и жизни.
Вскоре послали Горецкого описывать керн из скважин, пробуренных для изучения инженерно-геологической ситуации в зоне будущего Беломорско-Балтийского канала. Он с энтузиазмом и большим упорством начал овладевать геологией и достаточно скоро работал не хуже настоящих геологов. Через некоторое время он стал изучать и описывать выемки и обнажения по трассе канала близ пос. Повенец («Повенец — свету конец»). Здесь уже было настоящее творческое геологическое исследование: найдены новые неизвестные ранее геологические слои, новые ископаемые раковины моллюсков и т. д. Работал с утра до позднего вечера, да так успешно, что в конце сентября его перевели научно-техническим сотрудником Геолбазы, а еще через полгода — старшим инженером-геологом Геологического отдела. Молодой академик-экономист стал юным инженером-геологом. Канал ББК — колыбель геологической специальности Г. И. Горецкого».
Радим Горецкий и Валентин Оноприенко подробно рассказывают обо всех мытарствах человека, попавшего в обстоятельства, в которых многие опускают руки, жалеют самих себя, живут одними воспоминаниями. Гавриил Иванович проявил силу воли, сумел остаться личностью, сохранить достоинство. Желание утвердиться в своей нравственной, моральной составляющей, жить по законам созидания, справедливости постоянно подталкивало Гавриила Ивановича к движению, развитию. Потому вскоре заметили его уже как талантливого геолога, ученого, обладающего исследовательскими навыками. Горецкий проявил и свои аналитические способности. Уже в первые годы работы он сделал целый ряд важных отчетов и работ по геологии изучаемых им районов: написанное касалось поиска различных строительных материалов, гидрогеологии, фильтрационных и физико-механических свойств грунтов. Выступает вчерашний академик-экономист и со статьями в различных научных, специализированных изданиях. Названия говорят о характере интересов исследователя: в 1937 году Горецкий печатает статьи «Некоторые данные о неолитических стоянках Кольского перешейка», «Новые неолитические стоянки в г. Кеми, в Карелии».
8 мая 1938 года ученого вновь арестовали. Обвинения — по старому делу, главное — по статье 58-6 (шпионаж в пользу польской и немецкой разведок). Читаем в главе «Новые аресты в «Архипелаге «ГУЛАГЕ»: «В деле Горецкого значилось, что он не только сам работал на польскую и немецкую разведку, но и завербовал таких известных политических деятелей, как Н. Н. Голодед и А. Г. Червяков. Когда сравнили цифры сроков событий, то выходило, что он завербовал их после того, как эти деятели были уже мертыми (один покончил жизнь самоубийством 21 июня 1937 года, а другого расстреляли в июне 1937 года). Сразу стало видно, что обвинение надуманное и сфабрикованное. Горецкого отправили назад в Медвежью Гору с предложением освободить, что и было сделано 22 июня 1939 года.
Группу заключенных, в которую вначале входил и Г. Горецкий, тем временем расстреляли. Если бы не те обстоятельства, что принудили послать его в Москву, и не очередная замена одного наркома НКВД на другого, очень вероятно, что среди расстрелянных в урочище Сандармох под Медвежьей Горой был бы и Г. И. Горецкий...»
Продолжая напряженно заниматься практической работой, в 1945 и 1946 годах Гавриил Иванович защитил кандидатскую и докторскую диссертации в области геолого-минералогических наук. В 1958 году ученого реабилитировали: «дело за отсутствием состава преступления прекращено».
Но драма его жизни еще не окончилась. Тогда, в 1958 году, Гавриил Иванович еще не мог вернуться домой. А ведь уже весь научный мир знал его как выдающегося ученого. В 1964 году вышла объемная монография Горецкого «Аллювий великих антропогеновых прарек русской равнины. Прареки Камского бассейна». Только в 1965 году Совет министров БССР принял постановление, отменившее исключение из состава членов Белорусской академии наук Горецкого Гавриила Ивановича. 28 сентября того же года Президиум АН БССР принял постановление: «...считать в составе Академии наук Белорусской ССР в Отделении химических наук академика Горецкого Гавриила Ивановича...» В 1968 году — наконец-то долгожданное возвращение в Минск. Умер «дважды академик» 20 ноября 1988 года. За эти два десятилетия, что еще отмерила ему жизнь, Гавриил Иванович успел сделать немало. И обо всем этом с большой любовью, подробно рассказывают авторы книги.
Серьезным дополнением к биографии, созданной Радимом Горецким и Валентином Оноприенко, являются воспоминания коллег по науке, статьи, посвященные отдельным исследованиям Гавриила Ивановича Горецкого. Книга впечатляет. Несомненно, прочитать ее следует всем молодым людям, кто начинает путь в большой науке. Повествование о Гаврииле Горецком — это и необходимое чтение для тех, кто занимается историей белорусской литературы, изучением жизни и творчества классика белорусской литературы Максима Горецкого. Писателя, чье место в «изящной словесности» Алесь Адамович оценил следующим образом: «Место это — одно из важнейших: место классика белорусской литературы. Рядом с Купалой, Коласом, Богдановичем».
Сегодня многие белорусские издатели активно занимаются выпуском биографической литературы. На протяжении нескольких лет выходит серия «Жыццё знакамітых людзей Беларусі). В рамках этого проекта увидели свет книги, посвященные Ивану Шамякину, Владимиру Короткевичу, Владимиру Мулявину, Александру Медведю, Николаю Чергинцу... Будем надеяться, что в этой серии придет к читателю и документальное повествование о замечательном геологе, основателе палеопотамологии Гаврииле Ивановиче Горецком.
НАШАНІЎСКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ МАКСІМА ГАРЭЦКАГА:
АД КАРЭСПАНДЭНТА ДА ПІСЬМЕННІКА
«“Наша Ніва” – гэта люстро душы, думак і патрэб Беларусі… Усе каму дорага і блізка справа жыцця і адраджэння Беларусі і беларусоў, выпісывайце, чытайце і шырце беларускую газету “Нашу Ніву”», – такімі радкамі пачынаецца першы нумар газеты за 1912 г. Менавіта з гэтага часу беларускі пісьменнік Максім Гарэцкі далучаецца да асяроддзя «нашаніўцаў» у якасці карэспандэнта.
У якасці аўтара (карэспандэнта) газеты Гарэцкі пачаў выступаць з 13 (26) верасня 1912 года. Яго матэрыял выходзіў у пастаяннай рубрыцы «З Беларусі і Літвы» і даносіў весткі з Горак. Актыўнасць супрацоўніцтва з выданнем лепш будзе ўявіць праз ніжэй прыведзеную табліцу:
|
Дата выхаду |
Рубрыка «З Беларусі Літвы» |
Рубрыка «Найноўшыя творы бел. літ.» |
Рубрыка «Наш фельетон» |
|
№ 37 13(26).09.1912 |
«Г. Горкі» (Беларус) |
||
|
№ 43—44 2(15).11.1912 |
«Г. Горкі» (Беларус) |
||
|
№ 2 10.01.1913 |
«Шамоўская воласць…» (М. Беларус) |
||
|
№ 4 25.01.1913 |
«У лазні» (М. Беларус) |
||
|
№ 5 1.02.1913 |
«Нашы» (Максім Беларус) |
||
|
№ 6 7.02.1913 |
«Магілёў»: «Таварыство цьвярозасьці», «Не глядзелі-б вочы» (М. Б.) |
||
|
№ 8 20.02.1913 |
«Атрута» (Кароткі жалобны абразок). (Максім Беларус) |
||
|
№ 9 01.03.1913 |
«Атрута» (Кароткі жалобны абразок). (Максім Беларус) |
||
|
№ 20 16.05.1913 |
«Стогны душы» (Максім Беларус) |
||
|
№ 21 23.05.1913 |
«Могілеу: Весткі з Горак» (Гарэцкі); «Краіна добрых абычаеў» (М. Б.) |
||
|
№ 26-27 5.07.1913 |
Могілеу: «Навіны з Горэк» (Беларус) |
||
|
№ 30 26.07.1913 |
Могілеу: «Модные абычаі» (Максім Беларус); «Адзінадцатуха» (М. Б); «Жывая нябошчыца» (Максім Беларус) |
||
|
№ 31-№ 33 01.08.1913— 16.08.1913 |
«Родные карэні» (Максім Беларус) |
||
|
№ 39 28.09.1913 |
«Красаваў язмін» (М. Г.) |
||
|
№ 43 24.10.1913 |
«Страхацьце» (Г. М.) |
||
|
№24 20.06.1914 |
«З Могіëушчыны» (Хадзяка) |
||
|
№ 19—20 22.05.1915 |
«Дзегаць» (М. Горецкі 12/ІV-1915) |
||
|
№ 1–4 28.10.1920 16.11.1920 |
«Прысяга» (М. Гарэцкі) |
Відавочна, што М. Гарэцкі сумяшчаў публіцыстыку з заняткам літаратурнай творчасцю, і гэта абсалютна лагічна: па-першае, назіраючы за праявамі рэчаіснасці, ён знаходзіў сюжэты для сваіх апавяданняў, па-другое, рэалізоўваў пастаўленую перад «нашаніўцамі» задачу азнаямлення чытачоў з літаратурнымі навінкамі на беларускай мове; па-трэцяе, выкарыстоўваў газету як пляцоўку для выказвання сваëй грамадзянскай пазіцыі.
Публіцыстычныя матэрыялы, напісаныя М. Гарэцкім для «Нашай нівы», звычайна пазначаны як «нататкі», аднак, калі разгледзець іх не з пазіцыі літаратуразнаўцы, а журналіста, жанравая разнастайнасць формаў значна пашыраецца, ды і акцэнт на мастацкай вартасці робіцца іншы.
Для падобнага аналізу скарыстаем наступныя паняцці: «характар камунікатыўнага задання», «жанравыя прыметы», «жанравая форма» і «тып тэксту».
Характар камунікатыўнага задання фарміруецца мэтавай аўдыторыяй, да якой звернуты фармат выдання. Як згадвалася вышэй, «Наша ніва» арыентавалася на вясковае насельніцтва і інтэлігенцыю, што вызначала мэты і задачы карэспандэнтаў:
- ● Паведаміць пра падзею (знешнепалітычную або ўнутрыпалітычную);
- ● Прааналізаваць падзею, выказаць свае адносіны;
- ● Даказаць пэўную ідэю;
- ● Канстатаваць факт здзяйснення нечага і выказаць ацэнку.
Зразумела, што характар камунікатыўнага задання ўплывае на фарміраванне жанравых формаў газетнай публіцыстыкі.
Такім чынам, у № 37 (1912) газеты «Наша Ніва» з’явілася невялікая нататка Максіма Гарэцкага ў рубрыцы «З Беларусі і Літвы» пра «прыëмную пару» ў Горыцкае каморніцка-агранамічнае вучылішча. З аднаго боку, гэта тэкст-інфармацыя, у якім паведамляецца факт – адбыўся набор у вучылішча. Дастатковая ўвага надаецца лічбам» У гэтым гаду у дзьверы тутэйшаго каморніцка-агранамічнага вучылішча стукалося 250 хлапцоў, калі не лічыць тых, каторые не эгзамінаваліся пасьля дохтарскаго агляду. 232 хлопцы прасіліся у першу падгатавіцельну клясу, а рэшта у першу спэціальну. З гэтага ліку хлапцоў залічэны вучнямі усяго 36…» (№ 37, 1912). Аўтар дае інфармацыю пра заснаванне вучылішча, аналізуе геаграфію прытоку студэнтаў.
Аднак тэкст нельга назваць «чыстай» інфармацыяй, бо прыхаванае аўтарскае «я» відавочна чытаецца паміж радкоў. Так, напрыклад, чыста інфармацыйным падаецца сказ: «Вучылішчэ атчынено ў 1909 гаду, і за апошніе гады, у сярэднім на 30 мейсц просіцца да 300 чэлавек». Але ж ніжэй бачым рэальны прыхаваны аўтарскі каментарый «І с кожнаго боку выгодна вучыцца тут дзецям вясковых небагатых гаспадароў, бо ў падгатавіцельну клясу прымаюць тых, што акончылі двуклясную народную школу, а калі хлопчык патрапіць у вучні, дык яму, калі ëн сам мала мае грошы дзеля пражыцьця у Горках і добра вучыцца, даюць стэпэндію». Відавочна, што мэтай Гарэцкага было не толькі праінфармаваць, але і заахвоціць хлопчыкаў з вясковай беднаты ісці вучыцца. Заўважым, што і аргумент заахвочвання (стыпендыі, фінансаванне) адпавядаў інтарэсам мэтавай аўдыторыі.
Як бы ні намагаўся літаратар Гарэцкі глядзець на свет вачыма журналіста, імкнучыся да аб’ектыўнай фіксацыі факта, вобразнае слова і мастацкі погляд на рэчаіснасць выяўлялі ў ім выдатнага публіцыста з відавочным пісьменніцкім ухілам.
Ужо ў другой публікацыі (№ 43–44 ад 12(15).11.1912) пад традыцыйнай рубрыкай «З Беларусі і Літвы» можам чытаць чарговы матэрыял з «г. Горкі Магілеўск. губ.», у якім распавядаецца пра штогодні кастрычніцкі кірмаш. Па сутнасці гэта ўжо сінтэзаваны рэпартаж з дакладна выяўленым адлюстраваннем падзей, аналізам і адкрытымі ўласнымі каментарыямі. Штогадовы кастрычніцкі кірмаш – тая дынамічная падзея, якая скразной тэмай праходзіць праз матэрыял аўтара. Ён быў непасрэдным удзельнікам гэтага мерапрыемства і стварыў «вобраз падзеі» па гарачых слядах. Спачатку чытач ўводзіцца ў атмасферу гэтай падзеі: распавядаецца, што кірмаш незаладзіўся ад самага пачатку, адбываецца спроба высветліць магчымыя
У прынцыпе, першая палова тэксту – звычайная канстатацыя, характэрная для справаздачы, аднак другая змяняе наша меркаванне, бо аўтар нечакана раскрывае іншы бок сялянскага быту: «Але ж што-што, а гарэлку пілі на кірмашы, як усягды, калі ня лепей. Народ навакал жывець небагата, бо землі мала, а фабрычна-заводскаго промыслу ці якого іншаго німа і да жялезнаго шляху далека, а гарэлкі пьець тутэйшы селянін надта многа». Зноў аўтар звяртае ўвагу на праблему п’янства. Становіцца зразумелым, што асноўная тэма, якой будзе прысвечана журналісцкая дзейнасць Гарэцкага – гэта выкрыццё пьянства і заклік да навукі, адукацыі, асветы. Якой бы ні была скразная падзея, аўтар робіць акцэнт на «сваіх» праблемах. Гэта граматны прома-ход: па сутнасці, аўтар стварае свой «нашаніўскі» вобраз «горыцкага асветніка-праўдаруба».
Але ж Гарэцкі-аналітык настолькі глыбока спрабуе засяродзіцца на прычынах неўладкаванага сялянскага жыцця, што ўводзіць ў рэпартаж яшчэ адну тэму – казëнных «культуртргероў», якія, па сутнасці, павінны займацца выхаваннем вяскоўцаў: «Агулам кажучы, шырокае поле дзеля працы есць тут сейбітам прасьветы сярод цемнага беларускага сялянства. Ды не якім-небудзь, а сьведомым сеўбітам-беларуам, што выйшлі з вëскі, знаюць яе і не адракліся роднай вëскі. А то ў Горках здаўна есць шмат казенных «культуртргероў», бо калісь тут быў інстытут, а цяпер три сярэдніх вучылішчы для адукацыі на гападарцы… «саркастычна заўважаючы, што ««культура» нешта далей Горак ў нашых мейсцах ня йдзе». Гэты прыëм цалкам прыдатны да жанру рэпартажа, больш за тое, вельмі папулярны ў сучаснай журналістыцы. Як адзначае Б. Стральцоў, «рэпартаж прыдатны для адлюстравання падзей не толькі пазітыўнага, але і негатыўнага плану, можа мець крытычную скіраванаць. Для такіх выпадкаў больш падыходзіць сінтэзаваная форма рэпартажу – пры фіксацыі негатыўных момантаў узнікае неабходнасць разабрацца ў іх прыродзе, даць каментарый і ацэнку… Таленавітыя рэпарцëры часам пішуць крытычныя рэпартажы ў фельетоннай танальнасці, скарыстоўваючы выразныя сродкі сатыры і гумару – ад гратэска, гіпербалы, да іроніі, насмешкі». Калі ўлічваць гэтыя асаблівасці рэпартажа, варта адзначыць, што Гарэцкі відавочна на подступах да фельетона.
Дарэчы, пісьменнік паспрабуе сябе і ў гэтым жанры. Ужо ў № 5 за 1913 г. мы можам чытаць фельетон «Нашы», у якім сатыра накіравана на выкрыццë заганаў «нашых» беларусаў, якія выбіліся ў людзі. Як вядома, фельетон грунтуецца на факце, а ў яго аснове заўсëды ляжыць пэўны канфлікт. Яшчэ адным элементам фельетона з’яўлецца наяўнасць устойлівага вобраза аўтара, які не дае чытачу права аналізаваць канфлікт, а сам робіць выснову.
Гарэцкі тут не адышоў ад нормаў: у аснове фельетона ляжыць канфлікт паміж чалавекам і грамадствам, калі больш дакладна – у барацьбе чалавека са сваімі заганамі, якія знаходзяць урадлівую глебу для выяўлення ў соцыуме. Фактам для напісання фельетона сталі некалькі артыкулаў з расійскай прэсы пра беларусаў, што не ўбераглі душу ад спакусы палепшыць дабрабыт любымі сродкамі. У тэксце дакладна прачытваецца аўтарскае «я», яно ахінае чытача эмоцыямі з першых радкоў тэксту і не адпускае да апошніх. Больш за тое, аўтар не дае магчымасці чытачу самастойна паразважаць над фактамі.
Фельетон пачынаецца клічнымі сказамі захаплення (своеасаблівая гульня з чытачом): «Ёсць яшчэ порах у парахаўніцах!.. Ёсць ешчэ дзеткі у Маткі-Беларусі, ëсць ешчэ у нас людзі-арлы, клëкат каторых чуцен і ня токма на ціхіх спрадвеку абшарах Бацькаўшчыны, але далетае ен нават да сенцоў, пэўне задніх сенцоў вялікіх паноў, бліскучых паноў Пецербурга. Весяліся, скачы, маë беларускае сэрцэ!» Аднак праз некалькі радкоў становіцца відавочным, што тэкст мае вострую сатырычную скіраванасць, выкліканую аўтарскім незадавальненнем падзеямі рэчаіснасці. А не задаволены Гарэцкі тым, што ў адной з расійскіх газет надрукавана: «Сын незаможнага бацькі, папа-беларуса, трапіў у Пецярбург у Дух. Акадэмію і адразу “праявіўся”».
Безумоўна, балюча ўспрымаў падобныя «навіны» беларус Гарэцкі (дарэчы, фельетон быў падпісаны псеўданімам «Максім Беларус»), бо стаяў на чале нацыянальнага адраджэння і добра разумеў, як складана даюцца беларусам нават самыя маленькія перамогі. Усведамляў і тое, што нават за дробны промах, няверны ход расплата будзе вялікай, што, уласна кажучы, і ўбачыў праз друкаванае слова (расійскія выданні са смакам распавядалі пра «праявы» беларусаў). Таму ў фельетоне з горыччу прыняўся выкрываць нядбайных суайчыннікаў. Удала выкарыстоўваючы гратэск, аўтар стварае мастацкі вобраз ворага беларушчыны: «На пагляд-такі войстрачок дохленькі, куды прасцей галубка, але ў глыбіне душонкі сваей быў мудрэй уселякае вужакі, толькі нельга зычыць нікому гэтай яго «жыцьцëвай» мудрасьці, бо надта-ж брудна. Ня грэбаваў нічым, каб зарабіць грошы, каб проста набіць чэрава, але прастаўляўся, што працуе «высокім ідэям» і ўрэшці быў «сваім чалавекам» у рэктара «Сваю вялікую непрыхільнасць да такіх людзей Гарэцкі выказвае па-мастацку саркастычна: у газетным тэксце паняцці «свой чалавек», «высокая ідэя» наўмысна набываюць супрацьлеглае значэнне. І ўсë для таго, каб падкрэсліць, як лëгка можна памыліцца ў палітычна нестабільны час, вызначаючы маральную мяжу недатыкальнасці паміж сваім і чужым, высокім і нізкім.
Невыпадкова фельетон падпісаны псеўданімам «Максім Беларус», дзе «Беларус» прапісана з вялікай літары. Назваць сябе беларусам у той час мог чалавек, надзелены вялікай адвагай, разуменнем адказнасці за свае дзеянні і ўчынкі, і вядома, са шчырымі патрыятычнымі пачуццямі.
У фельетоне ëсць і другая гісторыя, прынесеная Максіму Беларусу «Биржевыми Ведомостями»: «Пан Лукашэвіч (хто хочэ, ніхай чытае Солон, ці як інакш), сын свайго беларусскаго народа, перш быў вучыцелем, потым… валасным пісарам, далей пралез у чыновенства, зрабіўся газэтным пісакам за «тые» грошы, скрабецца і ў Г. Думу, таксама працаваў «і нашым і вашым». Як тое кажыць: – на усе кепствы – майстра лепшы». Аўтарскае «я» публіцыста выражана адкрыта і эмацыянальна, носіць павучальны характар: «А сколькі ешчэ, хто ведае, поўзае гэткіх «нашых», буйнейшых і драбнейшых, па зямлі, у дварэ, дома ці сярод чужынцоў ў сьвеці! Крый, Божэ, барані…». Заканчваецца ж фельетон па-журналісцку вострым перыфразам: «І калі-ж мінець нас гэтае дрэннае – дажджлівае лета, бо шмат развялося чарвей; каб ня зьелі яны нашу капусту».
Такім чынам, і жанр фельетона аказаўся падуладным Максіму Беларусу. Малады пісьменнік таленавіта скарыстаў мастацкае слова для публіцыстычнай неабходнасці, бо фельетон – той жанр, дзе мастацкія сродкі толькі завастраюць тэкст. Ад першага іранічнага слова назвы «Нашы», да апошняга перыфраза тэкст прасякнуты дынамічным пульсам думак, эмоцый і спадзяванняў аўтара.
Нават з разгляду трох публікацый відавочна, што аналіз публіцыстыкі Максіма Гарэцкага «нашаніўскай пары» – справа не такая жо і другарадная, бо менавіта ранняя публіцыстыка Гарэцкага, творчасць таго часу, калі пісьменнік не быў яшчэ зацятым прыхільнікам ніякай іншай ідэалогіі акрамя справы нацыянальнага станаўлення, дае магчымасць зразумець, як фарміраваўся яго светапогляд, як выточвалася ідэалагічная пазіцыя, як слова публіцыста з часам ператваралася, вырастала ў слова пісьменніка.
“ЭХ! ПАЙСЦІ I СІЛУ СВАЮ НА ЎВЕСЬ СВЕТ ПАКАЗАЦЬ...”
ПЕРАКЛАДЫ ТВОРАЎ МАКСІМА ГАРЭЦКАГА
Пяць гадоў таму ў мястэчку Вейсеяй пад Вільняй сабраліся з усяго свету аматары міжнароднай мовы эсперанта, каб прысутнічаць на адкрыцці помніка ідэалісту-стваральніку гэтай штучнай мовы- Людвіку Заменгофу. Некаторы час ён жыў у Вейсеяі, тады невялікай вёсцы ў глухім месцы на беразе круглага, як зямны шар, возера.
На той сустрэчы мне пашчасціла пазнаёміцца і абмяняцца адрасамі для перапіскі з прадстаўнікамі Літвы, Латвіі, Польшчы, Швецыі, а таксама з сівавалосым дзядулем мсье Жанам з Францыі - тыповым пенсіянерам-вандроўнікам... У адным з лістоў падчас нашай сяброўскай перапіскі я неяк згадала імя славутага беларускага пісьменніка Максіма Гарэцкага, якога літаратуразнаўцы параўноўваюць з Анры Барбюсам, Антуанам дэ Сэнт-Экзюперы. Помню, мсье Жан расчуліў мяне лістом у адказ. Маўляў, пытаўся ў знаёмых і ў мясцовай бібліятэцы (у мястэчку на самай мяжы з Іспаніяй!), але, на жаль, нічога з твораў Гарэцкага не знайшоў, а так хочацца пачытаць “Чырвоныя ружы”!..
I ўсё-ткі яны існуюць, пераклады твораў Максіма Гарэцкага на французскую мову!
Прайшоў час, і, зацікавіўшыся гэтай тэмаю, я пачала збіраць падрабязныя звесткі пра тое, як шырока і звонка (а ці - глуха, і чаму?) гучыць у свеце роднае мастацкае слова. Захацелася пачуць, як яно звініць-вібруе над вадою не такой, як здавалася, ужо і вялікай нашай планеты - блакітнай і круглай, як тое возера пад Вейсеяем.
Усяго творы Максіма Гарэцкага перакладаліся на 11 еўрапейскіх і азіяцкіх моў: балгарскую, латышскую, літоўскую, мангольскую, нямецкую, польскую, рускую (сама болей), украінскую, французскую, чувашскую і яўрэйскую. Сюды ўваходзяць публікацыі асобнымі кнігамі, а таксама ў зборніках мастацкай прозы, анталогіях, альманахах і часопісах (усё - мастацкія творы і працы літаратуразнаўчага характару).
Так, у анталогіі “Беларускія апавяданні” (Сафія, 1968) на балгарскай мове можна прачытаць апавяданне Максіма Гарэцкага “Смачны заяц” у перакладзе Хрыста Бярберава, які перастварыў творы 31 аўтара гэтай выдатнай анталогіі - Змітрака Бядулі, Якуба Коласа, Янкі Брыля, Васіля Быкава, Уладзіміра Караткевіча, Міхася Стральцова... Выданне - у прыгожай зялёнай супервокладцы.
У 1978 г. у Рызе выйшла кніга Максіма Гарэцкага “На імперыялістычнай вайне. Віленскія камунары” на латышскай мове ў перакладзе Т. Руліса.
Дарэчы, раман “Віленскія камунары” на літоўскай мове пабачыў свет нашмат раней - у 1968 г. Кніга багата аздоблена ілюстрацыямі Васіля Шаранговіча. Аўтар перакладу - А. Жукаўскас.
Апавяданне М. Гарэцкага “Генерал”, перакладзенае на мангольскую мову Д. Улгійсайханам, надрукаванае ў далёкім Уланбатары ў 1984 г. (яно падаецца ў біябібліяграфічным слоўніку “Беларускія пісьменнікі”, т. 2).
Тры апавяданні Максіма Гарэцкага, пераствораныя па-нямецку, можна знайсці ў вялікай, блакітнага колеру кнізе “Буслы над балотам” (Берлін, 1971). На яе вокладцы - мініяцюрны малюнак: хата, буслянка, стажок, два дрэвы... Нядзіва: адзін з абразкоў М. Гарэцкага мае назву “Літоўскі хутарок”. Пераклады зрабіў Норберт Рандаў. А ўвогуле ў гэтай анталогіі беларускага апавядання пададзена шмат твораў беларускіх пісьменнікаў, гэтаксама, як і перакладчыкаў (апошніх я налічыла каля дзесяці!). Акрамя берлінскага было і мюнхенскае выданне падобнага кшталту - “Беларуская анталогія” (1983), дзе ёсць апавяданне “Досвіткі”
М. Гарэцкага ў перакладзе на нямецкую мову Фердынанда Нойрайтара.
На польскай мове ў 1921 г. у Вільні выйшаў “Кароткі нарыс беларускай літаратуры”, які сёння з’яўляецца бібліяграфічнай рэдкасцю.
Як ужо адзначалася, найбольш перакладаў Максіма Гарэцкага на рускую мову: “Красные розы” (1976), “Избранное” (1988), “Виленские коммунары” (1966), а таксама (у маскоўскіх зборніках прозы) “Повести” (1970), “Берёзы на шляху” (1980). Іх перастваралі Леў Салавей, Ірына Клімашэўская, Аляксандр Гатаў.
У Кіеве ў 1969 г. у перакладзе Галіны Вігурскай на ўкраінскую мову выйшаў раман-хроніка “Віленскія камунары” з малюнкамі В. Шаранговіча. А ў 1979 г. у зборніку “Беларускае савецкае апавяданне” пабачыла свет апавяданне М. Гарэцкага “Досвіткі”. Досвіткі па-ўкраінску... Да гэтага шмат гадоў раней у літаратурным альманаху “Нова Білорусь” (Харкаў, 1929) быў надрукаваны пераклад апавядання “Панская сучка”, зроблены Л. Кардзіналоўскай.
На французскую мову было перакладзена апавяданне “Генерал”. Яно пабычыла свет у невялічкім па фармаце (але ў 400 старонак!) зборніку “Сучасныя беларускія пісьменнікі”, выдадзеным у 1977 г. у Францыі клопатам выдавецтва “Мастацкая літаратура”. Перакладчык М. Гарэцкага - Сцяпан Батура. (Вось гэтую кніжку і можна было б рэкамендаваць для чытання шаноўнаму мсье Жану!..)
Апавядання “Генерал” на чувашскай мове, выдадзенага ў зборніку з доўгай незразумелай назваю кірыліцкімі літарамі (Шупашкар, 1985), на жаль, у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адшукаць не ўдалося. Гэтаксама, як і кароткі агляд “Беларуская літаратура” на яўрэйскай мове ў часопісе “Штэрн” за 1929 г. (№ 1). Гартаючы падшыўкі 1920-х гп, кранаючы крохкія жоўтыя лісты, усё думала: «Ці зайшло за рысу далягляду, няўмольную і жорсткую, як бег часу, “сонца беларускай прозы” - Максім Гарэцкі? Новы век будзе з ім ці без яго?..»